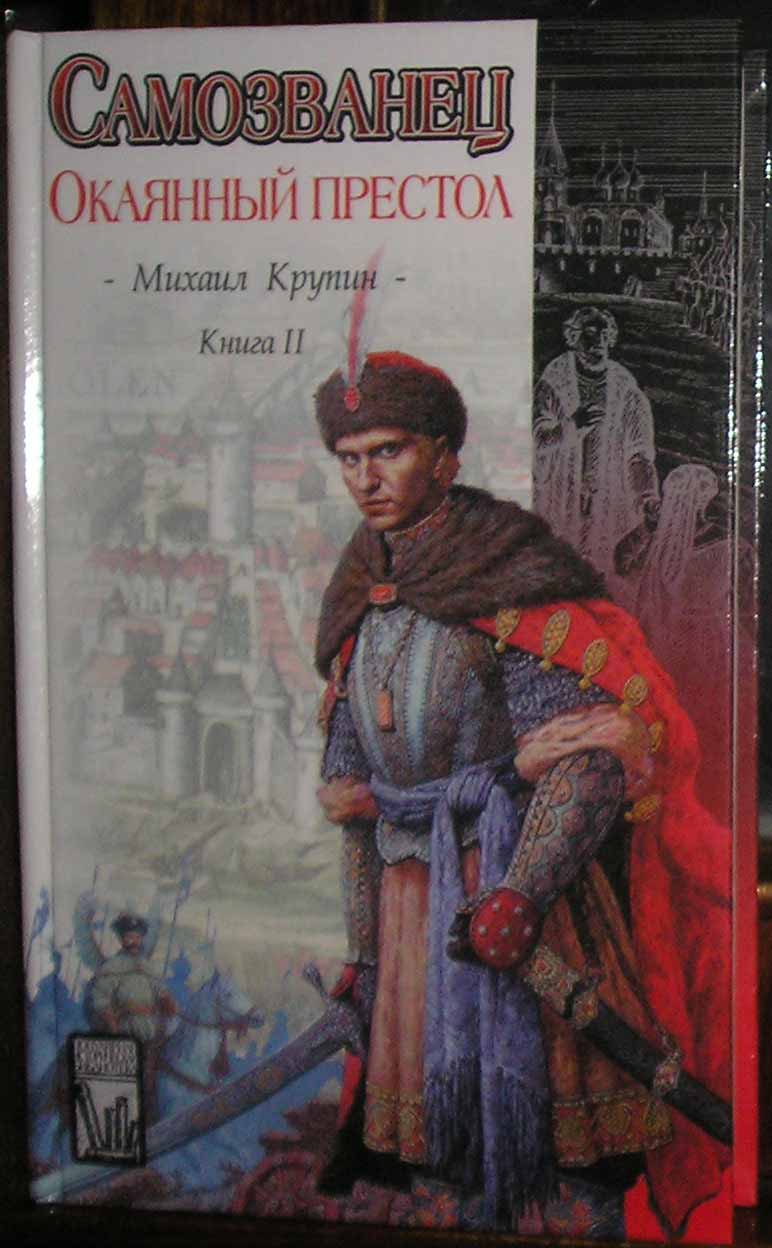| Война Закона и Любви
Крупин М. Рай зверей. Окаянный престол. Дилогия. М.: АСТ–«Олимп», 2003.
Роман-дилогия Михаила Крупина написан без отлаженных нынче философических рейсов в «проклятое прошлое» и обратно — жутковатое настоящее. И тем не менее — это роман современный.
Автором воссозданы пласты столь глубинные и сокровенные, что они способны взволновать именно нашего современника — любой авантажно-фантастический выкрутас а-ля Пелевин был бы избыточен. Смотрелся бы пустяшным и нелепым украшательством на общем фоне прозы Михаила Крупина, и без того облекающей самой тканью своей нечто достоверно-фантастичное...
Дилогия Михаила Крупина — о Человеке метаисторическом. Каждый из героев романа, помимо того, что филигранно выписан и обладает вполне современным узнаваемым характером, чувствуя себя при этом в антураже XVI века вполне естественно, суть герой-идея, герой-символ. Символ той или иной неразменной, божественной либо дьявольской силы, как бы разлитой в мире и вечно борющейся (либо вступающей в союз) с другими силами.
Только почувствовав этот авторский замысел (отнюдь не декларированный в сочинении, нет, — это было бы верхом безвкусицы), можно в полной мере уяснить, сто замысел этот просто невоплотим в современном декоре. Подобный «символизм» приобретает выразительность, выпуклость барельефа именно на отдалении хотя бы двух-трех веков. «Лицом к лицу лица не увидать...» Затея романа М. Крупина близкородственна авторской сказке, притче. Но, если драмы-сказки Шварца или Горина заведомо афористичны, нарочито-условны и пародийны в отношении реальности, то здесь чуть ли не маниакальная приверженность исторической детали создает странное, бесспорно, новое и лихое пространство, воронкой втягивающее в себя... На каждом шагу — это подлинная, живая Россия. И не только та, четырехвековой давности, но и вчерашняя, и сегодняшняя...
Стилизованные а-ля рус интонации автора и его героев, постоянная, «нарочная», веселая и горькая перекличка тех событий, душевных движений России с более давними и с нынешними (такими же сказочными) создают глубокую иллюзию безвыходно-замкнутого круга времен. Вернее, одного времени — длящегося то как благодать, то как проклятие. Реминисценции лучами стреляют из XVII века и назад, в прошлое, и — по хронологической линейке — вперед. Герои словно подсознательно знают уже обо всем, что еще приключится с их Россией...
Вернемся к этим персонажам-«символам». Пока намеренно упустим главного героя — собственно царя-расстригу. Почему? А, как ни странно, именно он — как бы не в фокусе, не в «символе». Не знаю, намеренно ли автор его несколько «растворил» или по непростительному недосмотру, но именно самозванец странно рыхл, неуловим, текуч, расплывчат. Вернее, он то ярок, воодушевлен, «впереди на лихом коне», то прячется в тень, за чьи-то спины. То покладист и сговорчив, то снова ершист. То расчетлив, жесток, то сострадателен, сентиментален. То размазня, то герой, то сквернослов, то философ.
Возможно, это и есть качества русской государственности той поры: ее метаний, непоследовательности, лихорадочных взмахов бича после долгого сна. Несвоевременных рефлексий...
Но прочие герои — в фокусе. Так что их загадки — корректнее, следовательно — интереснее.
В донском казаке Андрее Кореле, верном, но практически неуправляемом соратнике самозванца, — воплощенное стремление к абсолютной свободе. И страшный — кажется, никем еще в русской литературе не описанный — конфликт между личной свободой («По прихоти своей скитаться здесь и там, Дивясь божественным природы красотам... — Вот счастье, вот права!») и Светом (Корела — «дитя добра и света», без сомнения), налагающим на человека, своего сына и послушника, тяжкий, порою неподъемный Крест.
«Благословиться бы сразу на веки веков, отдать болью ли, кровью ли, Богово Богу, кесарю кесарево, возжечь все свечи, расшвырять все медяки и таньги... И пусть под ногами коня льется земной прах, над малахаем громоздятся облачные пропасти. Казак уже всех ублажил, всем пожертвовал, себе оставил одну сыру волюшку: страшную легкость и произвольную чувственность».
Воевода Петр Басманов — иное. Он изначально кладет свою жизнь на алтарь служения русскому государству. В лихолетье Смуты, естественно, как многие честные служаки, запутывается. Но не это в его образе главное. Басманов — символ души живой, погубленной ради русского великодержавия, принесенной ему в жертву.
Обладающий недюжинным полководческим даром, Басманов начинает свой «черный» путь, сжигая в силу воинской необходимости мятежный посад в Новгороде-Северском. И далее боярин последователен: вместе со Стрелецким приказом он принимает под свое начало и Приказ государева сыска. Спускается в пыточный подвал. Ведь кто-то должен быть и сыщиком, и палачом. Басманов знает: без железной системы подавления не устоит царство, а значит и России не жить. Однако ночи в подвале башни, где Петр Федорович вынужден пытать крамольников, не проходят даром для души его. Полководец Басманов, добросердечный, «книжный» человек, жертвует призванием и самим спасением души ради прочности охраняемого им трона, для блага государственного.
Подымаясь порой из подвала на улицу, он уже боится окунуть разгоряченное лицо в куст сирени — «испепелить нежный цвет».
А тут еще сомнения — прав ли? Тому ли служит? Тех ли мучит и казнит?
Потому-то Басманов и бьет маниакально, освободив слуг от этой обязанности, в горнице ночь напролет комаров и испытывает при этом «удивительно сладкое, вольное чувство», что «выпускает из врага кровь явно по праву, — это ведь его, боярская, кровь. Он карал сейчас кромешное ворье за разбой неоспоримый».
Автор лишь приоткрывает посмертие своего героя. Зарезанный возле дворца заговорщиками, Басманов — то ли уже в иной реальности, то ли в своем предсмертном видении, еще силится собой подпереть валящийся на него всей тяжестью московский Кремль. А затем — чуть ли не по Кафке — превращается в комара. («Тулово и члены его, будто сбитые в точку, в то же время истончились: длани, ноги протянулись будто ломано, раздернулись на несколько нитей. Нос изострился копьецом: лишь бы глотнуть — где, что, не важно, но страстно, злостно, лишь бы...»). Кремль же оказывается чьей-то многопалой красной лапой — расплющивающей своего бывшего защитника.
Любовные сцены выстроены в романах как положения единой теоремы — призванной доказать законы глубинного родства грешного человеческого естества и «государственного комплекса» чувств человеческих, а также эффектно опровергнуть известную теорию Фрейда.
Если Фрейд полагает львиную долю человеческих идей надстройкой над половой сферой, сублимацией сексуальности, Крупин запросто переворачивает «порочную» формулу: в основе каждого романного соития — дьявольская идея. Очень простая, сидящая в подкорке у всех этих любвеобильных (да и аскетичных) — бояр, боярышень, солдат...
Назвать это чувством отдельности, богооставленности, ведущим к желанию разорвать непостижимую гармонию? Или присущим всему живому — чувством бунта, желанием упасть и уронить, приблизив только так к себе, другого? Назвать так — значит, не сказать ничего. У Крупина это не называется, а показывается. Если бы те же любовные сцены «выстлать» в современном интерьере, они произвели бы впечатление частных ощущений рефлексирующего интеллектуала. Но автор этого не хочет. Он как бы говорит — так было всегда. Пусть они, эти герои, так и не думали, но так же ощущали, ибо все эти ощущения — лишь проекция одной древней идеи, я же пишу — ощущениями, слова принимайте как необходимую условность.
Антипод «Афродиты Народной» — «Урания»: небесная любовь Станислава Мнишека и Марии Нагой (в замужестве — Мстиславской). Еще ничего не зная о своей любви, польский ротмистр и московская боярыня искренне пытаются сблизиться плотски, как принято — «упрочив связь». И воочию открывается вдруг «Адамово безобразие», то, чем стал когда-то первый грех, раздробивший неделимое...
Герои «Рая зверей» мечтают о государстве совершенном. Автор явно делает попытку изобразить государя совершенного. Самозванец, прошедший огни и воды, душевные срывы и потрясения, пообщавшийся с «величайшими умами» Руси и Европы, уже на престоле приходит к покаянию, становится совестлив, великодушен, искренен... Да возможен ли такой на престоле вообще?
Однозначного ответа в романе нет. Но напрашиваются варианты. Возможен, но очень ненадолго. Сама природа государства несовместна с личной правильностью властителя. Государство, в лучшем случае, — лишь «добровольно помертвевший щит», призванный защитить от внешних и внутренних бурь вдохновенное цветение и медленное приближение к Небесам земной жизни.
Но почему же самозванец пал (по роману) именно тогда, когда — совсем уж было пришедший к Свету — не выдержал и обратился к тьме? То есть, по Басманову и Грозному, вновь начал «царствовать правильно»?
Война Отрепьева и Годунова — война Любви и Закона. Побеждает Любовь. И приводит своего победителя, самозванца, к Закону. То есть— к поражению, которое старый Закон терпит от новой Любви, по собственным неуследимым законам живущей...
Ирина ТАРАСОВА
|