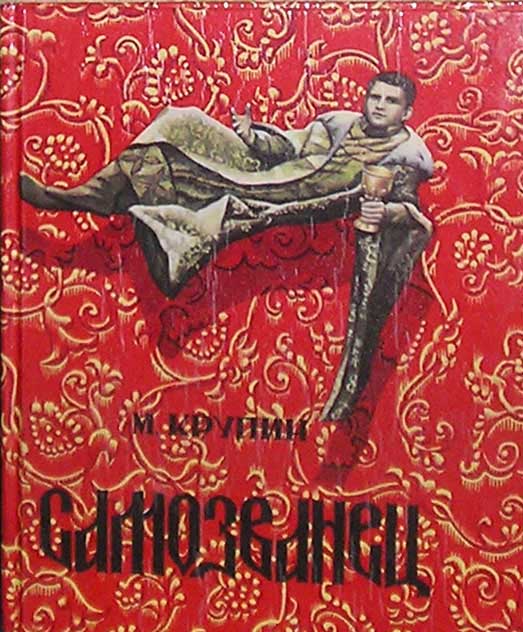Василий Голицын в последних числах мая прискакал из-под Кром
в Путивль и, четырех шагов не доходя царевича, упал под тяжестью принесенного
известия. Долго-больно бил челом оземь от лица всех «раскаянных витязей».
Задирая к Димитрию русую бороду, рассказал кое-как об успехе восстания
праведного в стане московских полков.
Стан ополчения весь разломился на два лагеря — головной воевода
Катырев-Ростовский, князь Телятевский, боярин Кашин во главе крепеньких
нижегородских, владимирских и псковских бойцов остались твердо на стороне
Годуновых. Решили даже сразиться со второй половиною стана, но мятежный гений
Басманова восторжествовал: все важнейшие точки пространства войны, кручи — для
звучности пушек, ложбины — ради разгона коней, наплавной мост через Крому —
чтобы только врагам приходилось тонуть, оказались в его руках. Князь Катырев,
узнав своего незаменимого помощника в рядах бунтовщиков, мудро опомнился,
очистил поле предстоящего сражения и быстро побежал. Отряды Басманова, туляки и
рязанцы, сами страшась проливать кровь сограждан, неслись следом, жгли, бодрили
бегущих знакомцев плетьми: «Ходи, ходи веселей! — ужо не попадайся!»
Ратники, жители замосковных северных городков, даже не остановились в столице —
три дня шли через Москву домой нестройными, вялыми толпами, на спрос бояр и
горожан не зная что и отвечать.
Польские советники никак не рекомендовали Димитрию приближать к себе части
Басманова, кажется, признавшие царевича, но по-прежнему сильные, страшные.
Покаянное радушие русского лагеря, уже сознавшего мощь своей воли, могло в любой
миг стать ловушкой отряду Отрепьева.
Приблизившись к Кромам, самозванец встал на расстоянии польской мили от русских
войск, выслал перед собой «добрый» указ — всем проживающим ниже Москвы жаловал
отпуск, месяц покоя и отдыха. Рязанские, тульские полки возликовали и исчезли
как дым. Тогда, уже не опасаясь подвоха, Отрепьев допустил к руке Басманова,
Голицыных, Шереметева и еще двести московских бояр и дворян. Остро ощупывал
взглядом — не мешало сразу раскусить каждого. Ласково изучал Михайлу Глебовича
Салтыкова: четыре года назад не настрочи он донос на хозяев Отрепьева — братьев
Романовых, не дрожал бы сейчас на коленях перед беглым монахом, а монах не ходил
бы царем.
Скоро Отрепьев пожалел о хитроумном роспуске опасного войска. Стрельцы дворцовой
гвардии, оставшиеся в распоряжении Годуновых, встретили хоругви царевича под
Серпуховом и пресекли все попытки казаков и поляков переправиться через Оку.
Атаман Корела помчался с сотней донцов на самых машистых рысаках в каширскую
сторону, переплыл Оку ночью и пошел дальше, помня задачу перерезать все хлебные
и пороховые пути, питающие упорных дворцовых стрельцов. Чтобы по волости не
приняли казаков за разбойников, Отрепьев послал с ними им известных дворян:
Наума Плещеева и малорослого отчаянного Гаврилу Пушкина с «государевым
прелестным письмом».
Не в силах выжидать вражий обоз возле наезженной колеи, Корела начал чертить
круги по заокским просторам. Здесь плотнее и гуще, чем на Орловщине, Тульщине,
расстилались, влажно чернели распаханные под ярь угодья, лишь прозрачные
правильные полоски урезанных рощ ласкали глаз шевелением вешних листочков. По
земле шли цепью сеятели, равномерно летело сухое зерно из горстей. Следом
двигались бабы и лошади, везя сохи с отвальными досками, а за ними уже шли
грачи, сбирая вскрытых червей и не съеденный бороздой хлебный остаток.
— Сейте, сейте — неприятелям нашим кормов только не подвозите! — покрикивали с
верхов на крестьян донцы.
— Сейчас, отвезли, — в шутку отвечали суровые крестьяне. — Самим жрать нечего! —
и, переводя лукошко с зернами за спину, опирались на острые ослопы.
— Ехайте на ярославский шлях, ребята! — приветливо посылали казаков молодки и
озорные, растущие в землю старухи. — Кажись, оттуда возы ходют — там мужичье
смирней здешнего.
На подбеге к селу Красному действительно казакам встретился ладный ржаной
караван.
— Заворачивай! — заорал на съежившийся обозный наряд Плещеев. — Окских стрельцов
кормить?!
— Господь с вами! — боязливо отзывались сытые, мягкие мужички в телегах. — Мы
ярославский казенный припас везем для Китайгородских пекарен Москвы, людишки
добрые, мелкие...
— Сворачивай тем более, мелочь! — прикрикнул Плещеев.
— Умка, стой! — схватил соратника за рукав Пушкин. — Так у вас что — пропуска в
самою Москву? — быстро переспросил он обозников и с каким-то безумием озарения
посмотрел на Корелу.
Атаман понял без слов. Благополучно пройдя через тройное кольцо укреплений
столицы, через ворота Земляного, Белого и Китай городов, усиленно оберегаемые
караулами, мучной обоз въехал прямо на Красную площадь.
— Куда валишь, деревня? — загомонили три друга-стрельца, охрана Спасских ворот,
подбежали рукоятками бердышей задать ума заплутавшим кормильцам-селянам.
Пока суд да дело, под смех мгновенной толпы созерцателей с одного воза мешки с
мукой кувыркнулись на мостовую. Из срединного маленького мешка вырвался Пушкин —
с «государевым прелестным письмом» помчал к Лобному месту.
— Указ царя и великого князя Дмитрия Ивановича всея Руси, царств Казанского и
Астраханского... — взбежав на круглое древнее возвышение, начал жарко читать
Пушкин.
Привилегированные постовые-стрельцы кинулись сквозь толпу — имать крамольника,
но любознательный русский народ сразу взял у стрельцов бердыши и пищали и
направил оружие против них. На Лобное место также взошел с припудренной мукою
бородой и в белой ферязи гордый Наум Плещеев.
— Мы, христианский государь, идем на православный престол прародителей наших,
хотяху государство наше получить без кровопролития...
Также вышедшие из мешков донцы Корелы, с ними рой московского люда, через
освобожденные башенные врата поспешили внутрь Кремля. Корела в первую голову
отыскал пыточный двор и подвальные тюрьмы, вызволил узников-однополчан. Худые,
немытые, в сгнивших исподних рубахах куряне во главе с капитаном Домарацким и
осужденные разговорчивые москвичи, зайдя на Лобное место, над прибывающим морем
народа явились полуживым обличением Годунова.
— А нас, великого государя, Господь милосердный от их злодейских умыслов укрыл,
и ныне мы, уж как сядем на царство, в великой льготе свои города, села, слободы
и улусы учредить повелим...
Лихие столичные нищие давно ждали вторжения Дмитрия или встречного бунта,
изготовившись для грабежа. Зажиточные, тоже чуя грозовой ветер с юга, поглубже
прятали сбережения, надсадно всюду жалились, как чисто вымел карманы последний
год, — помигивали на терема и палаты правителей. После сраму посошного войска
под Кромами всем вдруг стало яснее, что Дмитрий больше не Гришка, а, пожалуй, —
подлинно будущий царь. По соседству с двором его слабых врагов Годуновых стало
жить еще неуютнее. Москвичи желали худой династии теперь всяческих невзгод и
полной свободы падения. Поэтому Плещеев, Корела и Пушкин послужили для столичных
мещан теми случайными неминуемыми искрами, от которых сей материал
воспламеняется разом.
Московская голь ринулась грабить дворы Годуновых и ближних, родственных трону
бояр. Задвигался тяжело страшный колокол Ивана Великого. Напрасно Мстиславский и
Шуйский, пробиваясь к Лобному месту, призывали пропавшими голосами гнать
расстригу и вора. Зря вдова Годунова, царица Мария, спрятав детей за алтарь
дальней молельни, кружила в опустевших переходах Кремля, куда-то слала гонцов,
искала судорожно опоры, — через все запоры влетела во дворец улица, опрокинула,
растоптала иранской работы престол, увязала, комкая, все златотканые занавесы, с
царицы оборвала ожерелья, — от пожилой бабы Москве пока ничего больше не было
нужно.
Остававшиеся на стенах Белого города и Китая стрельцы, обозрев с высоты стихию,
сами, недолго думая, примкнули к ней. Переворот прошел на радость бескровно, но
вскоре выяснилось, что восставшие несут небывалые потери, — в винных погребах
казенных и княжеских спивалось насмерть в течение суток не менее ста человек.
Горстями черпали из кадей очищенный полугар, шапками — красный виноградный
рейнвейн, сапогами — сладкую романею.
Дума спешно направила в Тулу, куда отступил из-под Серпухова царевич, пару
беззубых и старых, но древнего рода князей — бить челом, умолять о прощении и
звать в Москву, дабы скорее сел на царство и успокоил чернь властной рукой.
Отрепьев долго моргал в такт поклонам посланников. Его полководцы очнулись чуть
раньше и, не в силах сразу представить, как это Корела и Пушкин без выстрела
взяли престол и Москву, заявили, что не торопятся в мышеловку. На разведку в
кланяющуюся столицу из стана Димитрия выехал князь Василий Голицын, с ним —
прочно повязанные с царевичем, взятые еще в Путивле и прощенные «с повышением» —
воевода Мосальский и дьяк Сутупов, люди, сведущие в лукавой науке низких
поклонов. Сему наряду предписывалось уловить сам дух державного города: отличив
истинно добрых, смиренных бояр и взяв их подручными, истребить «тайной гордостью
дмящасю и распыхахуся на государя крамолу».
— Да из Годуновых, глядите, чтобы никто не ушел, — наказывал, проводив до коней
своих наместников, Дмитрий, — всех придержите мне, без исключения.
«А то слухи вон уже, — думал царевич, глядя с холма вслед удаляющимся
собутыльникам, то и дело оборачивающимся, чтобы еще раз помахать пушными шапками
своему государю, — слухи ходят: заместо Бориса помер двойник, а Борис будто
сбежал то ли в Англию, то ли к татарам... Тут глаз да глаз... Но я велел
оставшихся попридержать — значит, и цесаревну-красу посторожат, я ведь велел без
исключения...»
Отрепьев смущенно улыбнулся, закинул руки за голову — и так стоял и загадывал:
если снова помашет Сутупов — Польша вскоре под каблук придет. Но дьяк более не
оглянулся, зато татарский дворянин, сын опричника батыр Шерефединов, завизжав,
вскинул и закружил на копье малахай.
Приказная черемуха
Петр Басманов, принявший Стрелецкий приказ под начало, на
время сделался также главой государева Сыска. Отдыхая от дел, боярин все
возвращался к одной думке-закорюке, необходимости установить: как это горстке
донских казаков удалось с ходу занять стольный, снабженный белой и красной
стенами с задобренной сытой охраной, огромнейший город? И не сокрылось ли за
показною лихостью казачьего налета что-либо из того, что теперь следует
Басманову по должности подробно знать? А уж коли не было боярской каверзы здесь
— и совсем хорошо: Петр Федорович, с радостью учения и дрожью ревности, изучит
все тонкости славного штурма — оно ему надо, первому воеводе Руси.
Басманов отправил рынд выяснить — где на Москве стоят донцы, бить челом, звать с
почтением в гости их атаманов.
Но рынды, быстро воротившись, доложили: кроме стоянки казаков из личной свиты
Дмитрия, к смелым делам передового отряда Корелы не касательных, нет
донцов-героев никаких. Басманов нерадивых рынд отдал под розги и, приказав
ополоснуть водой, заново бросил на поиски.
Освеженные, будто прозревшие, воины промчались по уличкам Китая, вертя конями,
ерзая на седлах, морщась и рыча, допрашивая встречных-поперечных, просыпались
сквозь путаное сито Белого города и заблудились в правильной немецкой слободе.
Но понемногу рындам начало везти: в лопухастых овражках, лиственных закоулках
открывали пасущихся рысачков с коротко стриженной гривой, с подрезанным косо
хвостом. Рядом с выгулом казацких лошадок чаще всего лубенел кабак— там рындам
удавалось обнаружить по-за штофами надолго спешившегося тяжкого наездника. А в
одном из кабаков конь находился прямо в помещении — склонив чубарую занузданную
голову под лавку, перебирал губами кудри неподвижного хозяина. Порой сурово
всхрапывая, гремя подковами среди катающихся по полу оловянных кубков, конь
никого не подпускал к родному казаку. Но людей Басманова, опрятных и
хлопотливых, рысак вдруг подпустил, закивал и даже преклонил колена — тем
подсобляя рындам погрузить хмельного поперек седла. Казак уже не имел ни
малейших признаков жизни, влажные черные кудри оплели его безнадежное — как
платок застиранный — лицо.
— Игнатий, атаман готов! — сказал соратнику молодой рында, наудачу послушав
через газыри черкески, пронизанной водочным духом, и не поймав теплого отзвука в
груди донца.
— Вези, брат, все одно к боярину, в приказ, — рассудил старший. — А то опять
урюта не поверит, под розги нас отдаст.
Для проворства дела закрепив кое-как атамана поперек седла на рысака, погнали к
Басманову. Но по дороге то ли ветерком донца обдуло, а может быть, мерные толчки
крупа друга-конька пустили ему сердце, но только вскоре атаман стал подымать
косматую голову, потом весь распрямился, хрустнув яростно суставами, и,
изловчившись, сел в седле.
Петр Федорович радостно приветил атамана, большие полководцы обнялись.
— Присаживайся, Андрей Тихоныч, рассказывай — где пропадал, как брал с ребятами
Москву великим дерзновением?
— Да ну, не помню, — сморщившись, махнул рукой Корела и присел на стулик посреди
пустой, обмазанной по алебастру известью светлицы. — Соленого арбуза нет,
боярин? Ах, москали не припасают? Хоть огуречного рассольцу поднесешь?
Басманов распорядился насчет ублажения гостя и снова спокойно напомнил Кореле
вопрос.
— Вот заладил, — оторвался Андрей от зеленой живительной мути в открытой для
него четверти. — Ты скажи лучше, где государь?
— Вообще-то наперво здесь отвечают на мои вопросы, — между делом заметил Петр
Федорович.
— Это где это «здесь»? — возмутился было Корела и тут ощутил, что сидит одиноко
на стульчике в оштукатуренной горенке, а Басманов стоит перед ним под маленьким
оконцем, рядом с узким пустынным столом. В оконце еще, впрочем, виделся дворик с
отдельными, как бы монашьими, кельями. В высоковатые их окна вмурованы часто
пруты. — Эк же тебя метнуло, воевода, ну-ну... — протянул, сострадающе морщась,
почти улыбаясь, Андрей.
— Сейчас царь в Янтарном зале, — ответил первым, не желая ссор, Басманов.
Петр Федорович вряд ли мог сам складно объяснить, как сразу и легко он,
прямодушный и отчаянный боярин, занял высокий пост самого скрытного ведомства.
Это легко могли бы объяснить поляки, полковники и капелланы, да путивльские
думцы, советники Дмитрия. Ими все это долго рассчитывалось: отслеживание темных
путей русской знати возможно было поручить, во-первых, только русскому (поляк
даже на краешек боярской местнической лавки сесть не смел — ибо и вошедшие в
Москву смутьяны не желали новой смуты на Руси); во-вторых, неплохо, чтобы такой
человек, хоть на первых порах, был любезен московским стрельцам и черному люду
посадов (то есть: ничем пока городу не насолил); и наконец, желалось бы иметь
хоть какую-то надежду, что сей облеченный высоким доверием витязь сам не начнет
потакать тайным заговорам, угождая каким-нибудь прежним дружкам.
Именно Петр Басманов был замечателен великой ненавистью и страхом, которые он
вызывал во всем русском боярстве. Родовитые ярились на него за худородство, не
обиженное божьими дарами и царскими милостями, а еще помнили в нем отпрыска
опричнины, понимали — чей он сын, чей внук. Но и среди малознатных, при Иоанне
Грозном выдвинувшихся везунов не был Басманов своим. Старики, запытавшие — еще
по молодой службе — родню его и оставившие по недосмотру жить малого Петю,
справедливо страшились теперь его гнева.
Итак, свита советников Дмитрия немедленно передала воеводе сей пост. Боярин
сначала отнекивался, дышал грозно, вспушая усы, но, всеми-таки убежденный,
согласился принять должность временно.
— ...Не помню никакого штурма, — все вспоминал Корела, сидя посреди приказа
перед кадкой с огурцами. — Рва, вала будто и не проходили... так, темнота
какая-то... Потом вдруг сразу — свет дневной, Красная площадь, Пушкин забежал на
возвышение, начал народу читать...
— Да, силен ты, атаман, пировать, — улыбнулся Басманов. — Все. Теперь, как тобой
захвачен стольный город — загадка русской истории навек!.. С праздников думаешь,
к какому делу применяться? — задал еще вопрос Басманов.
— Вот шкурку малость подсушу, почищу, — провел Андрей рукой по диковатой бороде,
сладкими кляксами рейнского подернутой черкеске,— явлюсь тогда к Дмитрию
Ивановичу, поговорим про жизнь.
— Мое ведомство в острой нужде, — грустно признался Петр Федорович. — Нужда в
храбрых проверенных умницах. Айда ко мне в податные, Андрей?
Корела сразу фыркнул, начал озираться: «Кого позвать?» — и, не найдя более
никого в горнице, стал увеличивать искусственно глаза.
— Это Дона воину перебирать доносы? Вместо пистольных крюков давить на кадыки
подпрестольных дураков?..
— Но кто-то должен... — возразил было и сокрушенно смолк Басманов. «О Боже, —
вдруг подумал он, — да неужели я один такой?..»
— Да и кого ловить, Петр Федорович? Народ горой за Дмитрия, боярство замерло,
чего ты здесь сидишь?
— Кого казнить, все замерло! — тяжко сорвался с места воевода, прошелся вокруг
кадки и донца. — А ведаешь, что клетки во дворе, — метнул рукою в сторону окна,
— полны под края Смутой? Там дворяне без прозваний, купцы без товаров, попы без
приходов, стрельцы без полков... а на деле — все купленые бунтари-шептуны,
подмастерья великой крамолы.
— Тю! — привстал, опершись на бадейку, Корела. — А кто ж мастера?.. Ну сыщи —
кто же их подкупал, шептунов? Надо-то кошевых бунта!
— Так они подобру ведь не скажут — неужели пытать безоружных страдальцев? —
отразил напор казака щитом его же тонкой щепетильности Басманов и тут же, вмиг
отбросив бестолковый щит, устало объявил: — Сыскано все уже. По слабым ниточкам,
путаным звеньям прошел, немножко косточек мятежных покрошил под дыбу... И вот
могу ответить утвердительно: выходят эти нитки с одного двора.
— Чей двор? — пытал заинтригованный Андрей.
— Ха! Послужил бы у меня в приказе — узнал, — ловко поддразнивал Басманов. — А
так гадай-угадывай, волость удельная.
— Маленько подскажи, тайник с кистями, — попросил Корела.
— Да можно и побольше. Уж кому-кому, тебе полезно знать, какие лютые ехидны
батюшку нашего подстерегают. Во все то время пока Дмитрий шел к Москве, а ты с
ребятами по винным погребам да по кружалам отмечал победу, с того ехидного двора
посыльные сновали на базарах и очень не советовали распалившимся мещанам Гришу
Отрепьева (да, брат, Отрепьева Гришу!) царем сгоряча привечать. На том дворе
ехидна собрала первых людей столицы — зодчего Коня, целителя вольного Касьяна,
Сережу-богомаза... И уговаривала их метнуть в посады клич: одумайтесь да
возбегите-тка на стены белокаменной — отпор до самой Польши вору! И ежели бы
первые эти московские люди приободрились да вышли к народу, так еще вопрос —
царил бы нынче Дмитрий Иоаннович в Кремле и сладко ли бы в Сыскном приказе
атаман Корела похмелялся?
— Так что за ехидна, не понял, змея или как ежик? — морщил лоб атаман.
— Пока не поступишь, всего не скажу, — издевался Басманов. — Птица княжьего
роду. С въездом Дмитрия в город тать пока лег и притих... Ждет поры для удачного
прыжка, нового темного времени...
— Воин, ты что? Враг до сих пор свободен?! — Корела даже потянулся за клинком. —
А ну-ка, отвечай: какого роду князь? Пошто тобою не взят, не прижат в тот срок
же?..
Басманов выждал долгое, спокойное мгновение и прямо ответил:
— Я боюсь.
Непросто было Петру Федоровичу вымолвить эти слова, глядя в беспамятные,
совершенно новые после запоя нездешние очи Андреевы (ведь такие глаза лишены и
понятия страха за жизнь, которое могло быть только на хорошей памяти о прошлом
страхе жизни).
— Как это у тебя бывает, воевода? — в удивлении Корела отпустил клинок обратно в
ножны.
— Андрюша, ты не московит и вообще почти не русский, иных вещей тебе и объяснить
нельзя, — вздохнул Басманов, морщась под тысячелетней тяжестью родных традиций.
— А ты начни сначала, — подсказал казак.
— Ну, Рюрик был сначала — первый князь Руси, затем — Владимир Мономах, Александр
Невский... Потомков Невского, великого святого ратоборца, теперь осталось на
Москве всего одно семейство, так что, не будь Дмитрия в живых, старший сего
овеянного славой рода имел бы право царствовать... Его-то терем и распространяет
волны смуты...
— А я что говорю, пора таких князей захоронить, они уже не знают, как
прославиться!
— Без надежных подручных недолго на кол взыграть самому, только открой дело... А
помощников еще поищешь. Если и кочевник с Дону уж кривится, так легко ли
природному русскому свое живое древнейшее прошлое рушить? Он никак еще не вник:
разнообразие и спор кремлей — это уже позавчера. Завтра же — блаженство всей
страны, чудесно устремившееся вдаль по воле самодержца!
Увлекшийся Басманов говорил уже обыденным неясным русским языком, забыв, что для
степного атамана эта речь пока великоумная чужбина.
— А где Кучум, овса он получил? — Корела вдруг поднялся и оправился.
— Пошел, Андрюша? Значит, зря я распинался. — Басманов огорченно привалился к
белой стенке, смазал ребром ладони по подоконнику. — Игнашка, гостя проводи к
коню!
— Так не шепнешь на дорожку, Петр Федорыч, какой там Рюрикович хитрит? —
обернулся на пороге казак. — Мстиславский али Трубецкой?
— Это Гедеминовичи, — сухо поправил невежду Басманов.
— Слышь, а царю сказал? Дмитрий знает?
Но воевода огладил усы, положил за кушак руки и не вымолвил слова, не двинулся
больше, пока атаман, оценив головой прочность низенькой притолоки, не покинул
служебной избы.
Тогда Басманов с размаху швырнул на стол стальной кулак, следом за ним упал сам,
сгреб щепотью на темени остриженные под татарина кудри, — мореный стол
откликнулся весомым кратким эхом, напомнив обо всех распирающих старый дуб
делах. Добрую половину этих дел, начатых при Годунове, давно надо было сжечь, но
Басманов все медлил, не подымалась рука. Из верхнего слоя харатей, противней,
книг Петр Федорович понял: нынешний царь и чернец Чудова монастыря Гришка
Богданов Отрепьев — один человек. Сходство примет, составленных со слов родных,
знакомых Гришки — галичан, монахов суздальских, московских, сличение литовских,
русских мест и дат освобождало от всяких сомнений.
Ум Басманова изнемогал, тщась осознать свой путь, долг — в колотой, нескладной
мозаике. Но неожиданно молодое сердце воеводы дышало радостью, когда так думал:
все же не сынок безумного деспота и не породистый придворный лис, а свой,
сноровистый собрат-самородок садится на великорусский престол!.. Хотелось
посоветоваться с кем-то умудренным прочно, перевести дух, опершись на
преданного, близкого. Но всюду — скорые «кроткие» взоры бояр, дьяков, от меха
шапок до сафьяна сапог покорившихся и все же не покоренных... Либо кичливые по
мелочи ляхи...
Со страшным скрежетом решетчатая рама окна вдруг сдвинулась, подалась, чубарая
конская голова всунулась в горницу. Басманов рванул бешено ящик с пистолями...
Вовремя услышал хриповатый голос:
— Лады, Петр Федорович, мы с Кучумом прибыли к тебе на службу. — Над конскими
ушами показался всадник — атаман Андрей. — Мы так прикинули: у родовитого злодея
в погребках поди не счесть сулеечек старинной выдержки? Где-то еще такое
приведется?.. Нет, мы попробуем Димитрия оборонить... — и казачок протянул
воеводе надежную руку, которую Басманов с чувством сжал.
Тогда донец пощекотал плеткой коня под наузным ремнем, и удивительный Кучум в
свою очередь установил стаканчиком на подоконник продолговатое копыто.
В сыскном подполе разговор с князем Василием Шуйским вышел короткий. Князь под
пол только заглянул — завидел три свечи, обмирающие от сырой тьмы, столбы —
мощные тени, несложную ременную петлю под перекладиной и в черной смрадной луже
затвердевшее бревно противовеса. Уперся Шуйский из последней мужской, оттого
зверской силы ногами в косяки узких дверей и на пытку не пошел. Заголосил благим
блеянием — мол, повинюсь во всем правдиво и пространно. И здесь же, враз, сев на
приступке крутой лесенки, на все вопросы сыскной сказки дал утвердительный
ответ: все так, и еще как! Умышлял, витийствовал, озоровал, каверзовал, склонял,
ярился...
Пока ярыжка успевал подсовывать под перо в твердой щепоти Шуйского то навесную
чернильницу, то наветные листки, Басманов и Корела вышли подышать во двор.
У полинявшей задней стены здания Казанского приказа отцветал большой черемуховый
куст. Корела и Басманов подошли к нему и опустили лица глубоко в подсохшие, но
еще остро-ясные грозди.
Младшие братья Василия Шуйского поначалу отнеслись легче к допросу и пытке. И
только когда прямые руки каждого, восходя сзади над головой, уркнули из плечевых
суставов, а ноги как раз отнялись от земли, и нежная кожа от паха до кадыка
напряглась — одним непрочным, взрезаемым костями по морщинам-швам мешком... —
явили братья всю свою крамолу. По очереди, взвешенные на дыбе, определили они
татя-подстрекателя: брат Митрий показал на Степана, а Степан — на брата Митрия.
Тюремный лекарь сразу же вдевал приспущенным вниз заговорщикам по месту правые
руки, и тати, зажав бесноватыми пальцами перышко, отмечались каждый под своим
доказом.
— Так што, один братишка надурил? А сам-то что ж отстал? А ваш старшой где был,
ошкуйник? — снимал допрос дальше Басманов с уравновешенных заново под
перекладиной грузиком хомута на бревне, резанных кнутом князей.
— Што тут сделаешь, раз на мне нету вины? — хрипели одинаково князья запавшею
гортанью. — Ну... еще есть на одном измена вся доподлинно — вроде смущал нас,
пьяных... тот... ну, смоленский воевода, боярин с одна тысяча пятисот, восьми
десятков и еще четыре лета от Христова Рождества... ну старший князь Шуйский.
Подписались кое-как и под строкой, ловящей старшего на воровстве престола.
Чтобы им лишний раз не приделывать руки, Басманов посоветовал:
— Расписывайтесь заодно и в собственной татьбе. Будто кривить не надоело?
— Припишите еще: Петр Тургенев, голова в дворянских сотнях, всюду состоял. А
чтобы я — смиренник государев, это вряд ли... — сказал средний брат, отдуваясь —
лежа на земле между столбов.
Басманов ощерился жестко: измышлял для Шуйских точный ложный страх, весь
перекосившись душой.
— Да ежли вы сейчас же, демоны, не повинитесь, — вырычал он наконец, — мы ж
ваших жен на нашу дыбу — раскорякой к палачу...
— Воля твоя, Петр Федорович, гложь старух, а из нас больше звука не вынешь...
Это что ж? Хошь, чтобы древние князья своей рукой — и не кому-то, а себе же
бошки сняли? Никогда не может быть!.. И все это, чтоб ты свою породишку худую
выпятил, да?! — спросили уже Шуйские: говорил старший брат, а меньший
презрительно сплюнул — знатной кровью с высоты.
За спиной у Басманова грохнула дверь. Петр Федорович оглянулся, но уже завизжали
снаружи ступеньки — Корела выходил на волю. Вскоре следом за товарищем поднялся
и Басманов: казак стоял невдалеке, лицом к стене служб — в черемуховом кусте.
Вдоль всей широкой приказной стены пушился сквозь крапиву одуванчик — и надо бы
свистнуть кого-нибудь выкосить сор, да всегда недосуг: труждаешься во славу
государя либо так вот отдыхаешь от глухих трудов, оплыв душой. И то сказать — в
иные времена кто-нибудь сам бы, поди, каждый закуток Кремля и прополол бы, и
вымел. А нынче не до травяных малых хлопот — может, бревна катает или в землю
уходит с лопатой вблизи москворецких бойниц. Туда из служебных подклетей уйма
люду согнана — на закладку молодому государю нового дворца. Ясно, в старых
Борькиных хоромах Дмитрию зазорно. Старый же чертог Ивана Грозного, где временно
остановился государь, и ветх, и ставился без должного капризного внимания царя
Ивана, все прятавшегося, спасаясь от бояр, в какой-то подмосковной слободе.
Басманов подошел было к помощнику, но остановился в нескольких локтях — не
касаясь куста. Будто чья-то непонимаемая сила слабо, но действительно заграждала
ему путь: точно воевода накопил и вынес из подвала сердцем и лицом столько
клокочущей звериной злости и страха, что, коснись легко он сейчас раскаленным
лицом до пенки куста — иссушит, испечет до срока нежный цвет. Пусть уж так, на
расстоянии от воеводы, цвет еще подержится, сплоченный из отдельных, купно,
приоткрыто-улыбающихся лепестков в тесные кисти счастья.
«Нельзя, — Петр Федорович потер запястьем платье против сердца. — Мне нельзя
так... Надо было вести до конца, безотдышно, внизу начатое».
— Любопытная пытошная арихметика, — звучно щелкнул воевода ногтем правой руки по
скрученным грамоткам за обшлагом левой.
Корела, вздрогнув в кусте, посмотрел на Басманова, как на изрезаемое без
милосердия подпругами брюхо коня.
— Оно и понятно, — не глядел на казака Басманов, — по первородству-то Василий
метит на престол... Вот только плохо, странно, что мои сокола, третий день на
его усадьбе ковыряючись, улики путной не нашли... Заподозрительно даже. Надоть
самим хоть дойти, что ли, туда — глянуть, что да как?..
Атаман вышел совсем из куста, кинул руки по швам.
— Петр Федорович, я не могу сегодня...
— Что так? А по боярским хмельным погребкам пройтись-то хотел? — улыбнулся
Басманов, почуяв недоброе.
— Значит, перехотел, — резко положил донец вдруг руки за кушак. — Дуришь, Петр
Федорович, это же грабеж.
— Ой, — заморгал сразу Басманов, — кто ж это мне здесь попреки строит? Дай
спрошу-тка: ты, станичник, для чего в степи турские караваны поджидал? К сараям
Кафы струги вел — зачем? Саблями торговать аль лошадьми меняться?
Корела побледнел и поднял на Басманова похолодавшие глаза.
— Мы своим гулянием Русь сохраняли, как ни одной не снилось вашей крепости
стоялой.
— Правильно, — осадил сам себя воевода. — И не грабеж то, а — война и к ней
законная пожива. У нас сейчас — то же. И даже у нас еще хуже: обороняем самого
царя! Не поймешь ты простоты этой толком, а сразу клейма жечь — разбой, грабеж!
— Наверное, ты прав, Петр Федорович, — будто смирился донец. — Нет, не разбой
такая простота, а хуже воровства.
Помолчали. Выходило так: чем честней старается Басманов стать на место казака,
тем внезапнее с этого места соскальзывает и оказывается в каком-то незнакомом
месте.
— На допросах меня боле нет, — уведомил Корела. — Сам на твоем станке за
государя разодраться — всегда радый, но про эту муку я не знал...
Андрей, согнув кунчук под рукояткой, зачем-то обернул вокруг руки, повернулся и
пошел вдоль здания приказов — невольно перешагивая одуванчики.
Зашагнув за угол и перестав теменем чувствовать Басманова, казак вдруг воротился
мыслью к спору. Провел рифленым сгибом плети по своей, в круг стриженной, но,
подобно шапке одуванчика, молодцевато-слабой, распушенной, одинокой голове...
Там, в ближайшей дали, южной глубине — поездов парчовых остановлено, сожжено
персидских каравелл, облеплено казачьими баркасами — на щепки разъято —
султановых шняв... А роз сладких... На побережьях все трепещет и откупается от
Дона золотом...
Но там люди хватают свой куш еще в пылу сшибки, радуясь сильному и в смерти, и в
лукавом бегстве неприятелю. Там за коней, оружие, арах и рухлядь казак сам, не
привередничая, подъезжает каждый раз под тесаки и пули. Рядом, за то же барахло,
свободно гибнут лучшие товарищи, а на обратном, медленном от веса дувана пути
уже укрепленный отряд татарвы настигает станичников по теплому следу.
В награду, в случае удачного исхода, казаку и коню его перепадет лишь самое
необходимое. Главная добыча — в обиход Донского войска, и идет вся на закупку по
Руси того-сего: винца, овса, хлеба — всего, что сложно ухватить южнее. Да на
гостинцы Москве в оправдание своего приволья.
Вся эта купность лихих обстоятельств (хотя вряд ли каким московским дьяком взято
это в толк) как бы закрепляла за казаком — прямой травной буквой степного закона
— кровное рыцарское право на все опасное добро по окоему Востока, дерзко
облагораживала и возвышала разбой.
На диких сакмах часто казакам встречались белые, выскобленные силами степей
кости с оловянными крестиками подле шейных позвонков: ордынцы ослабшего русского
не довели-таки в рабство. Так донцы убеждались в правоте и надобе своей гулевой
службы. Оловянные крестики вернее всякого соборного обряда благословляли
вольницу — обнадеживали насчет смертного пути.
Там-то, на одном из путей великой степи, и повстречался Кореле два года назад
русский царевич — в литовских краденых доспехах, в собольей шапке набекрень.
Андрей тогда гостил на славном острове Хортица, у запорожских старшин.
За пьянство во время лихого похода запорожский казак по закону карался
немедленной смертью. Но едва выпадал по случайности мир, остров Хортица весь
одевался туманом и зыбко качался на волнах Днепра. Кто живее других пропивал
боевую добычу, шел на промысел в только им знаемые заветные речные места за
бобрами. На Сечи оставался лишь тот, кто еще не истратил карбованцы и силы в
отважной гульбе. Потому-то приезд запыленного рыцаря со старшиной Евангеликом
был едва удостоин внимания сечевиков. Кто плясал под бандуру и скрипку, —
продолжал трамбовать каблуками просторную площадь; кто, бесчинствуя, рвал у
товарища чуб — не оставил свое удалое занятие; кто раскинулся в центре майдана
обрушенным памятником — и не подумал ожить.
Так что о чем побеседовал незваный московский царевич с кошевым Сагайдачным и
куренными, хранившими все же по должности человеческий облик, почти никто не
узнал. Не знал про то и донской гость, атаман Корела, не успевший еще
похмелиться в то утро.
Лишь когда Андрей сумел приподнять голову над столом в кантареевой хате, увидел:
в зажженном лучами встающего солнца дверном проеме стоит, лучится пузырчатым
панцирем рыцарь.
— Ты кто? Ангел смерти? — крутнул языком наудачу казак.
— Я царевич Димитрий, — ответствовал «ангел».
— Все одно ты покойник. И ты думаешь я забоялся? Сейчас узнаешь, как сманивать в
ад казаков!
И донец, размахнувшись, обрушил на беса клинок. Тот успел увернуться, подставив
наруч. Шашка только скользнула по гладкой броне — увлекла донца на пол. Там он и
остался, уснул.
Когда проснулся, солнце било сквозь войлок на крыше прямыми отвесными пиками.
Рядом кто-то дремал в пышных латах, приткнувшись в углу. Казак постучал в
гравировку зерцала:
— Ты тут кто?
— Я живой человек, не покойник, — поспешно ответил разбуженный.
— Намекаешь, что я так упился, стал на выходца с того света похож? — донец
подышал на зерцало лат гостя, протер и увидел отечное, злое лицо. — Все, браток,
чтоб еще я притронулся к адскому зелью...
Смел недопитую сулею1 со стола, тяжело опустился на лавку.
— Погутарь со мной, друже, мне скучно. Звать меня атаманом Ондрюхой Корелой, а
тя?
Рыцарь, видя, что минуло пьяное буйство, рассупонил, снял латы, подобрал сулею,
чуть плеснул в деревянную кружку:
— Похмелься! — подождал, пока выпьет и порозовеет казак. — Атаман, я наслышан
про битвы твои. На тебя вся надежа. Узнай, я сбереженный царевич Димитрий.
И пришелец поведал донцу о чудесном побеге от злобных Борисовых слуг, о долгих
странствиях, светлых знамениях неба и о замыслах черных Бориски-царя — все
ополье донское и волжское у казаков отобрать. Корела, умнея, смотрел безотрывно
на сказывающего, ворошил смоляные кудри. «Черт дери Запорожье, кого тут не
встретишь, — так думал. — Димитрий воскресший. Али врет? Но всю землю, видать,
обошел. Эк ведь нужды казацкие знает. Будет царь настоящий — не для барской
сволоты, ради бедных людей».
Когда объявившийся Дмитрий окончил сказание, казак предупредил:
— Государь, я не знаю, как и величать и чем потчевать милость твою...
Рыцарь дал знак рукою: мол, не суетись.
— Ты скажи мне, Ондрюша, как мыслишь о речи моей? К кому тянешь, ко мне ли, к
Борису?
— Что тут мыслить? — казак потянулся, сверкнул белоснежной улыбкой. — Годунов
разве царь? Просто писарь. Бить ли войску донскому татар вместе с ратью
московской, охранять ли в степи караван, в караване посольство Бориса к султану
— первым делом указ. — Корела нахмурил по-глупому черные брови, подражая
чиновному русскому чванству. — «Имяна, и хто имянем атаман, и сколько, с которым
атаманом казаков останетца, то бы поимянно переписали, и дали б посланнику, а
посланник бы тех имяна слати к нам». Тьфу! Ну писарь, и только!
— Да ты знаешь, пошто эта перепись? Чтоб в холопы точней казаков обратить!
Атаман помрачнел:
— А вот даве дружок мой Ивашка Шестков перешел в государеву службу, прельстился
дворянским окладом. Атаманом был вольным, стал царским поместным. Да ладно бы
то. На земельной поверстке в Цареве Борисове белгородский помещик признал в нем
холопа свово ж крепостного, мальчонкой утекшего в степи. Влепили Ивану все
двести плетей — и на пашню. Уй, срам-то! — Корела обрушил на стол богатырский
кулак, спохватился — возможно ли так при царе?
— Ништо, атаман справедливый, ништо, — успокоил Григорий, — возьму свои царства,
сыск бедных, утекших от барей негодных своих, отменю, а казакам дарую все земли
по Тихому Дону, Донцу, по Яику и Тереку... И всем обещаю извечные вольные лета.
Корела поднялся, похмельной влагой сияли глаза.
— Государь... государь... да за это, что хошь... да за это... — Корела не знал,
куда деть руки. — За это... — пригреб кружку, затряс сулею. — за это вот выпить
бы ща!.. Князь Димитрий, вели: скачем вместе на Дон! Соберу тебе силу несметную!
— Нет, меня ожидают свершенья в Литве. Ну а ты отправляйся, не мешкай. Я же
грамоту вашим сейчас начерчу. Коль другие донцы-атаманы в радении ко мне от тебя
не отстанут, собирайте полки, присылайте гонцов... в Краков и Вишневец, где
застанете...
С того дня минула целая война. Корела, вдохновенный и счастливый, носясь как
бес, поспевал всюду — и в темнице у польских врагов Дмитрия, князей Острожских,
на воде без хлеба посидеть, и водить в бой хохляцкое рыцарство и брянское
крестьянство под Новгородом-Северским и Севском, и выдержать осаду в крепостице
Кромы, даже снесенной до основания мортирами Борисовой рати...
И первым из воевод Дмитрия — неуклонимой стрелой — он вонзился в эту идолицу
золоченую, Москву... И вот теперь — вдруг словно кремень или сам боек в ручной
пищали сточился и вхолостую чиркает, нету огня и выстрела, нету места или дела
атаману на камнях твоих неясных, мачеха Москва...
Свободный вклад
Навсегда покинув ведомство Басманова, казак Андрей Корела
гулял Белым городом. Брал он с лотков, не торгуясь и ничего не уплачивая, все,
что неожиданно хотел, и усаживался отдыхать, где толчея погуще и где он всем
мешал, — так уж ему вздумывалось.
Иной неравнодушный человек, приняв Андреево томление за глумление литвина, уже
приискивал вокруг себя хорошее подобие оружия или готовился возвестить Москве о
новом ляшском кураже... Как вдруг он узнавал в языке наглеца тот особый,
птичьи-тенькающий, радостный глагол, и, не поняв, чудом или расчетом сидит и не
спадает на затылке безобразника шапчонка, лавочник вдруг широченно улыбался и
просил милого гостя с Тихого Дону отведать теперь с новой начинкой пирожка.
Затем великоросс-торговец, от души охлопав казака, как отвязавшегося позапрошлый
год и найденного наконец жеребчика, уже тянул родимого до ближнего кружала.
Угощать так угощать: пирогов же без водки лоток не доешь.
Корела понял скоро: для московлянина казацкий Дон — какое-то нетленное сияние,
последнее пристанище и упование земной души. Какая бы грусть или боль ни гнула
такого человека — сжигала ли всю крендельную партию в печи жена, или сгорал весь
его дом с поварней и амбаром, или дом стоял, но рядом выгорало пол-Москвы и той
московской половине было уже не до баловства его изделиями, пирожник быстро
забывал едва сдержанную поначалу обиду. И работал дальше, будто и не было
особенного треволнения: он помнил, что течет пока по свету Дон. В любой день и
миг человек мог плюнуть прямо в кошелек ярыге, сборщику базарной дани, и,
дожевав остатний обуглившийся пирожок, явиться на Дон — над тихой и скорой, как
сабля, водой и пасть в объятия беззаботного народа, не поддающегося никому.
Этот ремесленный и торговый человек понесет свою жизнь трудно и смирно. Может,
он десять раз переменит свое основное занятие, крутясь во дворе и спасая семью и
себя. Каждый раз возрождаясь от мытного сбора, пожара или грабежа, он сбережет
тайную память о Доне, чувствуя свое спасение в степи так явственно и близко, что
ни разу не воспользуется им. Никакое тягло не покажется мужу сему неподъемным,
но на восток он сроду дальше Спаса за Яузой не хаживал и не пойдет.
Поэтому, после братины вина всех сразу на земле понимающий Корела не разуверял
человека в уюте его очарования. Наоборот, хотя для самого Корелы именно Москва
была каким-то вертоградом отдыха после мочалящих всходов по рекам и плаваний по
низовым степям, атаман расписывал перед сображником свою станицу и казацкое
житье-бытье такими ласковыми красками, что мещанин слюнки не успевал подбирать и
утверждался еще более в своей безысходной надежде на земной русский Эдем —
райский Дон.
Но бывало, угощали атамана и иные люди, ленивей и ярче. Они не чаяли добраться
от столицы до станиц, им казалось сподручнее установить Дон прямо на Москве.
Ведь с Дона за добычею нужно еще ломиться на неведомые полумесячные побережья,
пестро поросшие какими-то «сараями» (не то цветущими амбарами, не то дворцами),
а на Москве чертоги и гостиные склады всегда изрядны есть. Вот и выходит, если
где и место волюшке, так не в простой пустыне же — на золоченой тесноте! Вот где
льготы долго не видали — здесь, значит, ее в полной силище и заводить.
Такие умы атаман непроизвольно спешил отговорить от затеи.
— Хлопотна, страшна вольгота, государь. Царский строй-то полегче, — убежденно
говорил казак.
Но для горожанина страшнее мытаря и ката1 не было зверей. Он глядел на казака и
видел перед собеседником удушливый, расплющенный простор, как если бы из казака
смотрел. Посадская вольгота была лучше.
— В степу точно углов меньше, чем на посаде, — да и там четыре стороны. И те
неравны: ты сюда, а он отседа, ты султана так — и он неодинаково! — по-всякому
рубя ладонями, разочаровывал посадского в приволье атаман. — Будь ты мюрид якши,
что враз десятерых зарубишь, да одиннадцатый — пчах тебе! — стращал Андрей. — В
гоньбе выжмут на солончаки — ни тебе хлеба, ни глотка. Так, нарежешь конский
подбедрок ломтиками, макнешь в соль, на помете испекешь и ешь.
Но горожанин упирался в пол ногами. Придержав перед собой штоф, резал грудью
непоколебимый стол:
— Хлебушком-то на воде я пересыт и тут! Не даждь Господь! И тут коркам честь
такую оказал, мое почтение! Вперед могу и потерпеть! Уж как-нибудь обойтиться!..
Но вот от вырезки твоей и разновесной требушины отказаться грех! Хочу и я
попробовать! И детям насолю похрупать! — знай понимал свое посадский. — А голову
мне сарацин не снимет — рожи испугается!
Мечтателя уже нельзя было унять простой смертной угрозой, и Корела даже говорил
о вечном сраме для души. Про себя, усмехаясь, поминал только Басманова — вот бы
кто послушал да глянул: с кем бражнится податной его.
— Так что волынишь, Фомич? — спрашивал Корела нового знакомца. — Все на Москве,
как на печи, пролежни копишь. Поджидаешь, когда под тобой каша покруче заварится
— ан у тебя уж и бабий ухват припасен?
Фомич, спьяну не обижаясь, кивал, только ухват был у него «булатный», а не
«бабий». А курень, который он надеялся разбить на Трубной площади,
«человеческий», а не «воровской», как его поименовал атаман, шутливо встав на
место мещанина. А не надо на его место вставать. Он сам, может, лучше знает —
«воровской» ли учредить ему курень, не «воровской»...
— Будешь, Пахомыч, — уже путал имена сображников донец, — земляков своих
гонять?.. Мы, брат русич, агарян и тех не сплошь сечем. Тяжко давят, говорю
тебе, хребет Богу-Христу натирают казацкие-дурацкие грехи.
— Да знаю — слышали, — бурчал в опорожненный ковш мещанин.
— Я не то... Все это сбоку, — тихо хмурился Андрей. — Я про того Бога, Какому ты
мил.
Сображник вдруг прислушивался, сникнув, и вникал во что-то мягко отдаленное.
Приподнимал неудобные плечи на косных локтях. Но вместо Господа Бога, которому
все ж таки был он таинственно мил и любезен, почему-то только вспоминал одну
девчонку, кабальную дочку, — к ней он юным отроком переплывал в Заяузье, прямо в
хозяйский сад, но тамошняя дворня, а потом и собственный отец, отделали его так,
что пловец, с горя творя волю отца посватался к именитой вдовой попадье,
сидевшей на благословленном скарбе.
От бражного рваноголосия Корела поскучнел душой и разошелся умом — разом заходя
в церковность и торговлю, в священную волю высокой Москвы и грех низовой степи.
Встречающиеся порой Кореле казаки доводили до атамана, что его давно хватился,
спрашивает царь, и атаман уже разыскивается Басмановым. Все встречные донцы, в
отличие от Корелы, были уже по-домашнему опрятны, трезвы или легко похмельны.
Все или уже устроены в Кремль караульными, или пробивались в городскую службу. И
у каждого что-то стыдливо побрякивало по зарядцам, рожкам на ремешках. На Дону
такой бряк в тугом воинском сборе сочли бы великим позорищем.
Хотя Корела и смеялся над ними, но раз, зашед в храм Божий, хотел за упокой душ
сгибших друзей выставить по одинаковому восковому светочу, но — похлопал по
линялому бешмету, вывернул карманы — ни «копья». А церковь — как ее понимал даже
казачий атаман — вместо жертвы прихожанина жертвовать честью и свечой своего
причетника, как каким-то пирогом лотошника, не может. Наверное, и не должна. А
то еще свеча не во спасение донского войска встанет, а на сугубое глумление.
Замолвит огонек за «со святыми упокой», а в ответ получит... плясовую с
муталимами1. Не взяв свечи, Корела так смутился — чуть живот перекрестил, из
храма вон, и «Отче наш» забыл сказать, и на образ Андрея Первозванного не
глянул.
Метнулся на паперти, обе руки подал гордому убогий. Тоже зря: краснющий (сыт-пьян!)
гордец нисколько и уродца не пожаловал.
Казак Корела, загораясь по вискам от смоляных волос, чуть приподымаемых ужасом
собственной скупости, от сердца оторвал, положил юроду в ладонь пищальный
газырь, металлический, кызылбашский, хотя и пустой. Сумасшедший одобрительно,
подробно осмотрел блестящий колпачок, вдруг катнул в него твердую горошину,
поднес газырь к устам и страстно, троекратно, с непереносимым верещанием
просвистал.
И поволоклась к атаману со всех ступеней паперти, потянулась из замусоренных
апсид отчаянная нищета... У кого-то рожки огнебойного зелья трясутся вкруг
чресел. С хрустом по камню — на веригах ядра кое за кем поползли...
Сначала дальше, после ближе взволновались звонницы. И вот уже над нищими и
казаком, над коротким двориком их церкви, подтвердил двунадесятую обедню здешний
колокол. Он, тяжело ворочая язык, вдруг перекрыл всеобщую беседу и заговорил на
«о», прадедовым, чисто надтреснутым наречием.
Когда била «во все тяжкие» Москва, Кореле одно время чудилось, что это згужаются
здесь и поют — не смолкшие, оказывается, давно — все перезвоны, которые казак в
поездках жизни переслушал, но на чей призыв свято не заходил.
И, как на грех, теперь только, в виду вооруженных нищих и своей, врасплох
открывшейся, душевной и карманной наготы, казак поверил вдруг... какому-то
старинному спасению, полезному для всех.
Поодаль стояла еще, как обойденная, церковь, которую он посетил. Гудела, дрожа
рядом, непосещаемая колоколенка.
Какая-то уйма, мамона сокровищ прошла, не завязнув, сквозь пальцы Андрея, не
пристала к удачливой сабле. Китайские ковры, персидские мониста и
константинопольские диадемы торопливо обращались в русский порох, малорусские
суслоны и всегда в нерусских, бешеных коней. Хотя, казалось бы, головной атаман
станиц донских Смага Чертенский должен был отсылать десятую часть добытого в
валуйский приход. А может быть, Кореле просто так казалось...
Выйдя с Трубной на Красную стогну, атаман поворотил в прогал базарных лавок и
зашагал по щиколотку в русом хлопке. Здесь вовсю трудились, щебеча — отзванивая
ножницами и насвистывая брильцами, — десять цирюльников и зазывали обросших.
— Подбрить, подголить, чуб подправить, ус поставить! — выкрикивали мастера,
уловляя самые заброшенные, дикие островки голов в мерном токе прохожих.
Слыша над собой ходкий, заботливый звук ножниц, атаман рассеянно, прилежно
отвечал на чей-то спрос о Доне.
Нечаянно приникнув сердцем к трущемуся об него цирюльнику, Андрей заметил
смехотворную похожесть его умельства на свое. Тоже, сколько в степи ни казакуй —
на место съеденной конями кашки наново подымутся волошки и ковыль, а из той
травы, глядишь, опять весь цвет ордынцев распушится, как ты ни стриги их
сабельной рукой.
— А любо, чай, об эту пору на Дону? — подался сердцем к казаку и брадобрей. —
Разве летось в этом вертограде жизнь? Пыль, перхотища... Только этим цветком и
дышу, — кивнул он баранками ножниц на храм Покрова, уняв на миг чириканье
железок.
— Что же, зимой тебе здесь лучше? — ухмыльнулся донец, вдруг взревновав
брадобрея к собору. «Поди, все заповеди и посты блюдет, сорокоусты понимает», —
наделил Корела брадобрея сразу всеми не имевшимися у себя достоинствами, как
врага. — Кто под Крещение тебе башку отдаст морозить? Прыгаешь, наверно, тут
один да на воде с соплей сидишь — зимой-то?
— А я все знай на храм любуюсь, — бодро бегал вокруг головы казака брадобрей. —
В голода он мне — пряник, в холода — костерок...
Корела даже дернулся и укололся. А потом засовестился: ведь и ему, чуткому
степняку, собор Василия блаженного тоже дивно нравился, но от себя он не посмел
бы так сказать.
На прощание, пока Корела искал на себе какое-нибудь награждение мастеру, тот сам
убедил донца взять у него скромный подарок — вышитую хитрую тесемочку, при
помощи которой можно будет в степи подстричься самому.
Встал обихоженный казак посередине пути. И услышал вдруг шум города, как шорох
большого челна на мели.
Загадал: как была и есть его судьба страшна для этих многокруглых стен напротив,
так будет и вперед противна им.
И наверно, оттого все так, что, какой стыд ни пытал бы степняка, застав перед
пылающим иконостасом или замерзшим нищим, уже на другой день все расплещется...
от новой страстной думки сердца. Останется одна смутная тревога о вине какой-то,
может, долге... Возможно ль удалому атаману с этаким горбом, как слепоглазому
подьячему аль чернецу, ходить?! Благословиться бы сразу на веки веков, отдать,
болью ли, кровью ли, Богово Богу, кесарю кесарево, возжечь все свечи, расшвырять
все медяки и таньги... И пусть под ногами коня льется земной прах, над малахаем
громоздятся облачные пропасти. Казак уже всех ублажил, всем пожертвовал, себе
оставил одну сыру волюшку: страшную легкость и произвольную чувственность.
Есть ли отмучившаяся до точности, засмеявшаяся совесть на земле? На земле — едва
ли. А простая совесть, непричесанная странная печальница, мало кому мила, да тем
дорога. Так что тоже не в каждом дворе заведена и приживается.
Расчесавшись после стрижки, атаман порычал — откашлялся и, без доброго
предчувствия, направил стопы свои в Кремль.
Четыре донских казака мялись при бердышах в Спасских воротах.
— Гляди, лохматый батька катит, как чертополох через Сиваш! — восхитился один,
из четырех самый бдительный.
Корела без кивка и слова пошел мимо своих, примазавшихся к царской башне, но
знакомый десятский, теперь почему-то с нашивками сотского на колпаке, опустил
поперек атаманова хода топор.
— Андрейша, над тобой икона чудотворная в апсиде. Матушка государя нашего с
Белого озера везла. Теперча ходящим здесь новый обычай — креститься на нее по
старине.
— Мы, Ондрей Тихоныч, всех это заставляем, — виновато, но тоже ревниво и строго
прибавил казачок, что атамана первым увидал. — Даже ляхи у нас шлемы ломят и в
пояс кивают! Так наш образ чествуют!
Корела улыбнулся недоверчиво, вовне — открыто, в душе — тяжело и насмешливо: как
просто ребята перещеголяли в благочестии самих себя.
— Вот веришь, Ондрей Тихоныч, латынь вся у нас осеняется здесь православно! —
подтвердил, гордясь и радуясь, казак.
— И хотел вас к башне приколоть, по итальянским кирпичам размазать... —
посетовал Корела. — Да вижу уж, нельзя ваш почин не поддержать.
Атаман сложил почти что кукиш, как, он видел, это делали при крестном знамении
ксендзы, нежно поцеловал ноготь большого перста и преподнес его к устам
десятского. Тут же сложил кисти рук католической лодочкой и поклонился.
Выпрямился он уже по другую сторону скрещенных бердышей — пошел, не оглянувшись,
в глубину Кремля.
— Быстрей, быстрей ходи, бегом, — крикнули ему вслед разобиженные караульщики, —
а то без тебя там сядут и начнут!..
— Цыц, вы, чурки1! — Корела не ускорил шага, не поверив посулу. Знал он всякие
донские штучки.
Теремную львиную калитку сторожил незнакомый Кореле немецкий наряд в одинаковых
панцирях. Наряд сказал донцу, что видит его первый раз, а потому без провожатого
в покои царские не пустит. Тем паче что там теперь — царь.
В благодарность немцам за их вежливый запрет — развернутым ответом, здесь атаман
не стал прорываться. Он теперь точно знал, где Дмитрий, больше ничего не надо.
Обойдя с другого боку Грановитый чертог, атаман неспешно огляделся. В самый раз
никого не случилось вокруг, сзади только — в приотворенные створы собора Успения
смотрели фаворски устойчивые огоньки. Лучше бы человек смотрел. Корела опять
воровски сжался сердцем подле соборной души.
«Воротиться, что ли, и чуток смиренно обождать?» — догадался, как размыслить
правильно и нравно, но носки его ичиг скользили уже, зацепляясь за ребристые
двенадцатиугольные кирпичики, — это атаман лез по чертожной стенке вверх.
Свесив голову с крыши во внутренний дворик, казак увидел прямо под собой
раскинутые створки ставен. Задержавшись за них щиколотками, перевалился в окно.
В палате, куда он попал, никто не обратил должного внимания на необычайность
прибытия гостя с Дона, хотя помещение полнил люд с саблями. Все были обращены к
стенке напротив донца. От тепла и удушья квадратный палатный столб — над шапками
с искусанными перьями — лоснился, а еще настежь открыто окно.
Корела с подоконника сошел внутрь и присмотрелся к польской гуще. Оказалось,
вьются офицеры в путаную очередь.
При начале очереди за большим столом сидел царь Дмитрий, рядом с ним — расходчик
Ян Бучинский, князь Василий Голицын, два отца-иезуита и Игнатий-патриарх.
Каждому рыцарю царь жаловал московское дворянство и нарекал очередной чин: так
поручики производились в кавалерийские ротмистры, а капитаны — в региментари или
в полуполковники.
Ксендз Чижевский медленно благословлял пожалованного, и патриарх Игнатий
попускал всему обмахом драгоценного креста.
Затем произведенный подходил к Бучинскому и на столе перед ним разглаживал
затертые, подклеенные векселя. Бучинский отсчитывал денежки из-под стола, из
зажатого ногами сундука, чьи-то расписки рвал, у многих только что-то помечал в
них, также и в своей харатье, и испачкал пером за ухом дочерна.
— Пане Анжей Кожельск, — кто-то тронул донца за рукав, — будь ласков, дозволь
глянуть и на твои листы.
Сразу многие из близстоящей шляхты повернулись к казаку.
Но у Корелы не водилось никаких расписок.
— Видзен, вот немного панов в стороне, — тогда подсказали ему, ослабев
любопытством. — Те также утеряли где-то свои ценни квитки. Те паны пойдут перед
вами, в последнюю очередь.
Корела облокотился опять на подоконник. Не вспоминая, зачем он пришел,
призадумался.
А очередь, путаясь, шла ходко. Тем более что непожалованных оказалось уже не так
много: просто вознагражденные не покидали палату, а отирались здесь же из
участия к доле товарищей.
Корела очнулся, когда все вдруг пресеклось — рыцарство построилось по стенам, с
честью провожая доброго царя, и место между притулившимся к окну Корелой и
великокняжьим столом стало чисто.
Царь увидел казака. Сначала привстал тихо, потом хохотнул, перешагнул через стол
и почти полетел к другу над струйками яшмовой плитки...
— Андрей!
Атаман не успел и поклониться государю, тот уже держал его за плечи.
— Нашелся-таки? Куда ты сгинул? В конце всех концов прибыл! — тряс соратника
Дмитрий. — Какой-то другой уже стал! Не пойму: подстригся, что ли?
Корела улыбался — и счастливо, и стеснительно. И правильно, и странно было: если
уж тянул против всея Руси кунака в цари, так и теперь на Москве ближе царева
престола родни не найдешь... Верно вроде, но чудно.
— Совсем на себя не похож, — все упрекал кум-государь, — идешь на приступ позади
колонны! — Повел атамана к столу, где Бучинский давно запер ларец. — Панове!
Душа низового казачества, герой неукротимых Кром и укротитель Москвы, поглядите
— забыт сам собою и мной! — говорил Дмитрий всем. — Ну да ничего... Остатки
сладки! — Дмитрий сам прозвенел, хрустнул ключами и расцепил сундук. Он попросил
Андрея подержать в руках донскую шапку вроспашь, а сам, тряся сундук, посыпал
тусклое тяжелое руно — навалил папаху с горкой.
Новоиспеченные полуполковники и капитаны напрягли в строю летучие усы,
вытянулись подбородками и подобрались животами. Даже в первых рядах и по
длиннейшей расписке ни один не взял и четверти казачьей шапки.
— Дальше-то как думаешь? — спрашивал царь донца, пока вываливал казну.
— К Басманову я больше не пойду, — предупредил Андрей сразу.
— Никто и не велит, — сразу дозволил царь. — Уже побудь при государе. А служба
за тобой придет — и на пиру найдет.
Дмитрий резво присел, собрал с пола просыпанные цатки и тоже примостил их в
шапку.
— Справишь охотничий убор — бежевый с золотом терлик и атлабасный кафтан! —
Выпрямляясь, Дмитрий скользнул взглядом по вытертой черкеске Корелы. — Закажи
прямо теперь в кремлевской мастерской. Как с крыльца сойдешь — за львом,
налево...
Атаман вдруг посмотрел на кунака пристально и даже побледнел.
— А то думные чины мои в охоте соколиной суще бестолковы. — Дмитрий снизил голос
с раздражением. — Да не только на охотах, завсегда... Всякий свою волю гнет, кто
молча ослушничает, кто велеречиво перечит... Суемудрие свое знаешь как нежат...
Только изрядно печалят да дразнят царя! А при мне, насупротив, должны иметься
люди свойские. Понятливые да понятные. Свои люди, в доску доска пригнанные как
бы, понимаешь? Что царский венец — что избяной.
Атаман слушал, бледнея. Неподалеку, за столом, Голицын, патриарх Игнатий и
Бучинский радовались в лицах ему.
— Виват гетману Анжею! — крикнул скрепя сердце полковник Домарацкий.
Ветерана поддержало смутным рыком высшее командование.
Пока не притих гул, Корела благодарил государя, а потом сказал повинную:
— Казни, но сразу говорю: пошить кафтан с лиловыми кистями — не по кошельку мне!
— И, отвечая ошеломлению взоров: — Видно, и я, Дмитрий Иванович, из бестолочи
того роду, что только злит да печалит тебя. Вот ведь, поклониться не успел и
встать на службу, а уже сейчас прямо тебя разъярю.
Чтобы продолжить объяснение, Корела протянул руку и снял с патриарха Игнатия
высокую, твердым раструбом камилавку.
— Нету у меня, надежа, ни на терлик, ни на сарафан, — глухо рассказывал он,
чисто переливая руно из папахи в раструб. — Приношу свой вклад в Церковь
Христову, на помин дружков да на отмыв грешков. Скатайте мне свечу в обхват, до
алтаря небесного...
Дмитрий пробовал улыбаться в общей тишине:
— Да награды тебе на тьму этих свеч хватит, на целое солнце...
— Тут хоть собор закладывай, — подтвердил Игнатий, уже придерживая животом
раструб с тяжелыми деньгами.
— Владыка. На новый собор, — указал казак и земно упал перед царем. Но чуть
коснулся затоптанной яшмы чамбарами и бородой — подскочил, развернулся и скоро
пошел вон из палаты.
— Андрюша, ясли за конем не ходят, ты смотри... — проговорил и охрип государь.
Донец замялся между двух дверей, серебряной и позолоченной, не зная, в какую на
двор.
Рыцари, полуполковники и капитаны сумрачно смотрели уже кто куда: лишь бы не
встретиться со взглядом своих папских отцов.
Атаман переменил свое решение и повернул обратно в залу. Дмитрий расслабился
сразу же — вяло, надменно.
Но Корела подошел к окну, вылез и пропал.
Затолкавшиеся у окошка шляхтичи увидели, как атаман с фасадной плинфы спрыгнул
наземь, пошагал себе, поигрывая на упружистых плечах смутной какой-то,
легковесной доблестью — как бы прозрачной броней против всякой беды и награды.